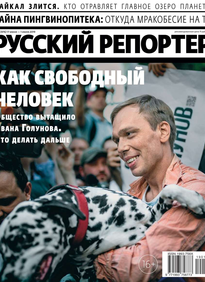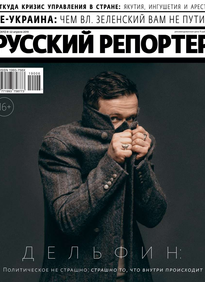ТОП 10 лучших статей российской прессы за Окт. 6, 2014
Ради чего остались в живых Юра из Донецка и Филипп из Львова
Автор: Марина Ахмедова. Русский репортер
На этой неделе исполняется месяц с момента подписания Минских соглашений о прекращении огня. И весь месяц мы слушаем уверенные прогнозы: не сегодня завтра кровопролитие возобновится. Однако хрупкое перемирие, установившееся на юго-востоке Украины, хоть и постоянно нарушается, но в целом соблюдается — стороны не используют взаимные провокации как повод для возобновления войны. Исторический опыт подсказывает, что месяц — это уже много, месяц — это обоснованная надежда на прочный мир. «Русский репортер» продолжает действовать в русле «журналистской дипломатии». Мы просто показываем все ужасы войны с обеих сторон и лишь с одной целью — выгнать войну из наших собственных душ и сердец. Как только это произойдет, хрупкое перемирие станет железобетонным.
Ростов-на-Дону. Продавец антиквариата Владимир спускается по дорожке. Вокруг растет можжевельник, местами шиповник. На пути табличка: «Здесь в Змиевской балке в августе 1942 года гитлеровскими оккупантами было уничтожено более 27 тысяч мирных граждан Ростова-на-Дону и советских военнопленных, среди которых представители многих национальностей. Змиевская балка — крупнейшее на территории Российской Федерации место уничтожения фашистскими захватчиками евреев в период Великой Отечественной войны».
— Евреи шли сюда пешком, — произносит Владимир, остановившись напротив стелы. — Тут жила моя бабушка. Два дня они шли мимо ее окон с утра и до вечера. Их было несметное множество. Немцы отделяли взрослых от детей где-то здесь, — обводит рукой сторону за низиной, где начинается шумная трасса. — Какая-то немецкая докторица смазывала детям губы цианистым калием. Наверное, стрелять в детей немцам самим было страшно. Мужчин и женщин раздевали донага, отводили группами к этой яме, расстреливали и возвращались за другими. Очень технологично и очень по-немецки.
Владимир замолкает. Ветер топорщит его рубашку с короткими рукавами. Трасса пропускает большегрузы.
— Я иногда себе представляю, — задумчиво продолжает он, — что бы я делал, если б оказался вместе с ними. Мне надо было бы умереть мгновенно, чтобы не пришлось смотреть в глаза своей жены. Как гуманно поступили большевики, когда убивали царскую семью — первая пуля государю императору… Люди падали в яму, — он возвращается к событиям в балке, — некоторые из них умирали сразу, некоторые были ранены и умирали долго, лежа под мертвыми телами. А когда стемнело… Знаете, ведь это не описано в архивах, это чересчур даже для трагедий Шекспира. Когда стемнело, из могил вышли нагие, раненые, испачканные в земле люди. Многие из них успели сойти с ума. Они превратились в живых призраков — еще не были мертвы, но уже не понимали, в каком мире они находятся. Они стучали в двери, тут раньше маленькие домики стояли, но им никто не открывал… Не могут никакие памятники выразить то, что здесь произошло. Как это выразить? Разве что написать реквием Верди, где хор кричит. Для меня это созвучно тому, что происходит сейчас на Украине — людей уничтожают ни за что… Знаете, однажды при мне полицейский бил человека. Это было на остановке, и там же стояла толпа людей. Он его не просто избивал, он его убивал. Толпа молчала. Я подбежал, встал вровень с лицом того полицейского и, когда он размахнулся в очередной раз, спокойно сказал: «Нельзя бить человека». И он опомнился. И толпа, опомнившись, закричала хором, как в опере: «Ах ты сволочь! Не бей человека!» Толпе всегда нужен пример, иначе она будет стоять в оцепенении.
***
Донбасс. Блокпост на подъездах к Снежному занимает две обочины, оставляя саму дорогу свободной. С одной стороны блиндаж и узкие, глубокие окопы, уходящие в зелень невысоких деревьев. С другой — белые, местами дырявые мешки с песком, между ними торчит ржавая каска. К тонкой лиственнице прицеплен тент, прикрывающий от солнца мешки, деревянную лавку и зеленый ящик из-под снарядов, на котором лежат запрелые бордовые астры. За тентом начинается широкое поле, на краю которого стоит тонкий крест, собранный из веток молодого дерева. Они перевязаны полоской белой ткани, чтоб держались. К вертикальной перекладине прибита табличка, на которой буквами с завитушками выжжено: «Здесь лежат украинские солдаты». Блокпост охраняют два старика.
— Тут мы похоронили четверых, у одного из них на ремне было написано «Богдан Прокопчук», — говорит человек, высокий, крепкий, седой. На лацкане его куртки — георгиевская ленточка. — То ли наши их тут застрелили, то ли свои добили. Мы пришли, еще под задницу его лупанули, хотели опросить — кто, откуда и зачем пришел. А он уже помер, бедолага… Знаете, как укропы нам наших убитых покидали? Зацепили за КамАЗ телегу и привезли двенадцать человек. Пытали их перед смертью, даже руки им так и не развязали… А эти, — кивает на крест, — лежали тут три дня, гнили. Вонь же. Пришлось хоронить. А так бы не стали. Ничего я к ним не чувствую, никакой жалости. Вот Украина вырастила себе за двадцать три года молодое поколение таких, — снова поворачивается к кресту, — которым внушили: Россия — враг. Вот он — результат. Молодежь пошла на нас со всей Украины — со Львова, с Запорожья, с Днепропетровска. Им сказали — можно бить милицию, закона не существует. А нам в результате семьдесят лет тюрьмы набегает за ношение оружия. Амнистия — не для всех. Там оговорено — не для тех, кто убивал. А мы убивали. Ну а как же?! Мы стреляли по танкам и бэтээрам… Валерий Яковлевич! — подзывает другого старика — худого и сутулого. — Иди сюда! Расскажи, что с нами произошло за эти месяцы. Расскажи, почему нам теперь укропов не жалко.
— А чего тут рассказывать? — спрашивает тот, поправляя на плече автомат. — Молодежь наша разбежалась, как только на нас наставили пушки танки. В бой пошли одни старики. Вот и весь компот!
— Молодежь не выдержала, — сухо гаркает Валерий Яковлевич.
— Слабыми оказались, так сказать, — подхватывает седой. — А мы закаленные. Ну и плюс мы знаем, что будущее — с Россией.
— А теперь ты расскажи, как они все инструкции к лекарством на украинском писали! — сварливо обращается к товарищу Валерий Яковлевич. — Покупаешь лекарство, а там — ну ничего ж не понять!
— Поэтому мы боремся за свой язык, — спокойно говорит седой. — Мы умрем за свой язык.
— А язык — это то, за что можно умереть? — спрашиваю я.
— Язык — это свое, родное, — отвечает он. — А за родное, как можно не умереть? Юра! — зовет. — Иди сюда!
Перед стариками вырастает молодой коренастый человек в афганской панаме, из-под полей которой смотрят огромные голубые глаза.
— Юра, вот скажи, — серьезно начинает седой, тяжело переступая с ноги на ногу, — ты можешь умереть за русский язык?
— Могу, — быстро выдыхает Юра.
— А почему? — продолжает седой.
— А откуда я знаю почему, — с тихим удивлением отвечает Юра. — Могу и все.
Он поворачивается и уходит.
***
Ветер тихо стелется по полю, шурша стеблями сухой травы и камыша. Юра идет легким шагом в сопровождении российского добровольца. Автомат подпрыгивает у него за плечом.
— Я отведу тебя к Сережке! — выкрикивает он, оборачиваясь ко мне. Машет рукой, подгоняя. — До него уже недалеко!
Они выходят к жнивью. Жирная земля усыпана колосками и пшеничной шелухой. Притормаживают у неразорвавшегося снаряда. Его серебристый бок испещрен черными цифрами и буквами. Идут дальше, и по дороге Юра рассказывает, как на днях один малой из соседнего села лупанул в такой снаряд картошкой, а тот его взял и покалечил.
— Пошли, пошли к Сережке, — Юра снова подгоняет меня.
Теперь оба делают остановку у одинокого двора, стоящего на отшибе. Здесь вокруг электрического столба густо растут кусты роз, посреди двора стоит автомобильный прицеп, заполненный тугими кочанами капусты, гуляют белые индюки и среди них — черный хряк. Бок беленого сарая чернеет дырой. На ветке дерева болтается подсолнух, зацепившийся за веревку головой вниз. Во дворе тихо. Только когда дует ветер, слышно, как подсолнух глухо стучит по стволу дерева.
Из дома выбегает белобрысый мальчик. Останавливается возле мужчин, тяжело дышит, вздрагивает плечами, улыбается. Застеснявшись, срывается с места и убегает в дом снова. Из-за леса доносится далекий лай собак.
— Собаки смотрят на человека снизу вверх, — говорит доброволец, направляясь за хряком, тот удирает от него в кусты. — А свиньи смотрят как на равного. И правильно. Люди — свиньи. Они постоянно убивают друг друга.
— Пошли, пошли к Сережке, — снова тянет Юра.
Он останавливается на дороге и, сняв руку с автомата, показывает вперед на два растущих рядом дерева. Из-за их крон виднеется крыша дома.
— Тут моя бабушка живет, — говорит он. — Когда пришли нацики, я забрался на этот орешник. Звоню нашим: «Нацики в селе!» Ну они засекли меня и ударили ураганами. Один снаряд пролетел прямо над крышей. Бабушка от страха описалась, выбежала из дома и кричит: «Голод застала! Фашистов застала! И до этой войны дожила!»
Юра выходит к полю, опоясанному густой лиственницей. Посреди него растет одинокое деревце, бросающее черную тень на выжженную землю. Верхушка его еще зеленеет, а нижние ветки бренчат сухими листьями. У почерневшего ствола — клочок бронежилета.
— Это украинский солдат, — говорит доброволец. — Все, что от него осталось. Он бежал сюда от сгоревшей машины. Если бы он сразу заскочил в зеленку, то был бы жив. За этим деревом ему было не спрятаться. В бою молодые всегда так — стараются укрыться хоть за соломинкой. А ему бы перекатиться по полю — и уйти.
— Ну пошли, пошли к Сережке! — перебивает его Юра и спешит по полю дальше, обходя муравейники.
Он останавливается у каркаса тяжелой машины, которая, сгорев, открыла черное нутро проводов, трубок и металлических коробок. Юра наклоняется и заглядывает под ее дно.
— Сережка, — говорит он.
Под машиной на клочке обгоревшего бронежилета высится горка серого пепла. Из нее выглядывает белая косточка.
— Я тут телефон нашел после боя, — говорит Юра, — полистал фотографии — там ребенок маленький. Еще эсэмэски — просил перед боем жену, чтобы матери позвонила, а та, чтоб за него молилась. Позвонил по нему жене — мне ж не жалко. Сказать, что ее муж умер. А трубку взял сам хозяин телефона, он, оказывается, из этого боя живым вышел. Судя по голосу, мужик опытный, наверное, офицер. Я спрашиваю: «А кто под машиной?» Он говорит: «Сережка. Новобранец». Не знаю, говорит, как его родителям сказать. А с ними еще один был, — ровным голосом продолжает Юра. — Кричал: «У меня ребенок только родился! Не убивайте!» А нам же не жалко его не убивать, мы его не убили, в больницу отвезли. Он раненый был, там от потери крови скончался. Не, ну ты представь! Этот дома там живой сидит, а Сережку убили! Я этому тогда в телефон говорю: «Слушай, ты к нам больше не ходи. И пацанам вашим скажи, чтоб не ходили». А мы с ним по-русски разговаривали, он по-украински не умеет. Он тогда и говорит: «Не пойду и пацанам скажу. А ты похорони, пожалуйста, Сережку». Будет у меня выходной, я Сережке крест поставлю. Не, ну ты представь! Он там живой, а от Сережки ничего не осталось! Так что не покажу я тебе Сережку. Извиняй.
***
Снежное. Территория женской колонии обнесена высоким забором и завитушками колючей проволоки. Женщины метут сухие листья, выскребая их из травы. Но ветер то и дело возвращает листья на место, и женщины заново проделывают ту же работу. Стоя в сторонке и кутаясь в вязанную жилетку, за ними наблюдает сотрудница колонии.
— Э-ва-ку-и-ро-ва-ли?! — по слогам переспрашивает она и заходится смехом. — Это же осужденные! Кто их будет эвакуировать? Тут обычных жителей никто никуда не вывозил. Кто мог, сам уехал. А заключенные во время обстрелов сидели в подвалах. Ну и мы с начальником колонии — вместе с ними. По несколько суток. Без света и без воды. А на кого нам жаловаться? Из Киева распоряжений об эвакуации не поступало.
— Почему?
— Ну, они вообще-то осужденные, — отвечает она.
— Они приговорены к лишению свободы, но не к смерти под снарядами, нет?
— Нас не поэтому не вывозили, — поднимает голову от земли одна из женщин, — а потому что эвакуировать нас было невозможно — тут кругом стреляли.
— Да кому они нужны?! — вскрикивает сотрудница. — Кто их-то будет жалеть, когда по детским песочницам даже лупили! Да и что хорошего видели те, кто уехал из Снежного? Их где-то ждут? Как только объявили перемирие, все начали возвращаться. Да я сама восьмого августа уехала в отпуск — так мне подвезло. Пока добралась до Харькова, насмотрелась и нарыдалась. На каждом шагу нацгвардия досматривала, мужчин выводили и раздевали до пояса. А в Харькове я узнала, что на нас, оказывается, напала Россия. О чем говорить? Я с ребенком в Харькове в больницу пошла, мужик там в коридоре на скамеечке сидит, у него указательного пальца на правой руке нет. А его признали к мобилизации годным! Говорит врачу: «Ну дадут мне автомат, что я буду с ним делать?» «За веревочку дергать будешь», — отвечает врач. Это я сама, своими ушами слышала! Люди страдают за что?! За хрен собачий! Простите мне мой русский! А вы хотите, чтобы осужденных кто-то пожалел!
В Снежном напротив дома с целиком вырванным подъездом стоит белый диван. На нем, понурив головы, сидят пыльные мужчины в мешковатых брюках. Подъезд, лишившись основательной части несущей стены, теперь показывает свои внутренности: обтянутые дерматином двери третьего и четвертого этажей, белую мойку, прилипшую к боковой перегородке, несущие стены, заклеенные квадратами разных обоев, лестничные перила. У двери первого этажа среди обломков сидит молодой ополченец с автоматом за спиной.
Подъезжает грузовик. Мужчины поднимаются с дивана. Из кабины выскакивает водитель и звонко отбивает молотком замки железного кузова. Еще одна партия таких же пыльных мужчин тянет руки вниз, им подают большие морозильные камеры. Общими усилиями камеры заталкивают в кузов. Грузовик уезжает, оставляя на дороге не вместившиеся в него высокие белые стеллажи.
— Мы — пленные тридцать девятого батальона территориальной обороны Днепропетровска, — представляется самый старший из мужчин, когда они рассаживаются у дивана на корточках. — Нас набирали через военкомат, и никто не спрашивал, хотим мы или не хотим.
— Кем вы работали раньше?
— Я двери устанавливал.
— Я монтажник-высотник.
— Я сварщик.
— А я в магазине работал.
— Если вы ждете, что мы вам расскажем про то, как нас тут бьют и обижают, то такого мы вам не расскажем, — говорит старший. — В этих обстоятельствах к нам еще нормально относятся. Ну как бы сказать… Я… Я — пленный, вот что. Я — в статусе пленного. И все. Я не чувствую себя униженным.
— Нам позволяют звонить домой.
— Минуту или пару минут на разговор дают. Полчаса назад мы пообедали, сидим теперь на солнышке — довольные, — говорит один, и все смеются.
— Кто вас взял в плен?
— Ваши соотечественники. То есть ваши регулярные войска. Мы стояли на блокпосту. Подъехало двадцать единиц российской техники. И у нас был выбор — либо вступить в бесполезный бой и погибнуть, либо сдаться.
Проходит группа женщин. Каблуки — розовые, белые, голубые — мелькают перед лицами пленных. Женщины ничего не говорят, но когда они идут мимо разбитого дома, цоканье каблуков по асфальту становится решительным, твердым, безапелляционным. Мужчины еще ниже опускают головы. Один тяжело вздыхает.
— Такой камень на душе, — говорит он. — Говорят, что обмен пленными вовсю идет. И мы ждем: вот-вот, вот-вот. Мы разгребаем завалы, но в общем-то сильно не перенапрягаемся. Работать на свежем воздухе — лучше, чем в подвале сидеть.
Приближаются молодые люди в джинсах и кожаных куртках. Возле разбитого дома их голоса крепчают. Они сплевывают, а поравнявшись с пленными, произносят матерные слова. Пленные поднимают головы, только когда группа удаляется. У самого молодого на лбу выступают красные пятна.
— Я сам русский, — бросает в меня хмурый взгляд старший, — и родился я в России.
— Я тоже, — говорит другой. — Я строил Ледовый дворец в Сочи.
— А я за бутылку кока-колы перевернул бы вон ту кучу, — говорит молодой, и показывает на груду битого кирпича, лежащую у дороги.
— А я бы — за пачку сигарет.
Я даю им гривны. Ополченец вскакивает со стула и, предупредив — «Подождите!» — уносится в сторону штаба. Через несколько минут оттуда приходит плотный мужчина, заросший темной щетиной.
— Дядя Федя, — хрипло представляется он, — помощник мэра Снежного. Вы им дали денег? Сколько?
— Пятьсот гривен.
— Не вопрос. Мы сейчас пойдем в магазин и купим все, что им нужно. Вы же не против, если я пойду с ними?
Вдруг порыв ветра опрокидывает стеллажи. Они с грохотом валятся на асфальт, выбивая из него столбы пыли. Все вскакивают. Дядя Федя взмахивает автоматом. Видно, как по лицам пленных проходит испуг.
— Ребята! — выругавшись, кричит дядя Федя. — Мне еще не хватало, чтобы вас покалечило?! …А вы, я это заметил, — обращается ко мне, — вы подумали, что раз у меня автомат, то я кого-нибудь из них сейчас ударю.
Сказав это, он уходит в магазин, прихватив с собой старшего. Пленные молчат. Туда-сюда мимо них ходят горожане, отстукивая свое отношение к ним каблуками и подошвами.
— Почему так долго тянется процесс обмена? — с тоской спрашивает молодой. — Ну жили же мы раньше все вместе, и все было нормально. Мы даже на Майдане не принимали участия… Эхх… — его прерывистый вздох дает представление о размерах камня на душе.
— Страха больше нет, — глухо говорит третий. — Сначала — вы себе не представляете, как мы боялись. А сейчас чувствуем только холод по ночам. У нас одно одеяло на двоих.
— А вы знаете, — впервые за все время обращается ко мне молодой ополченец, — в этом подъезде при обстреле одиннадцать человек погибло.
Пленные снова опускают головы. Возвращается дядя Федя и раскладывает на диване пакеты с пряниками, несколько блоков сигарет и бутылки кваса.
— А кока-колы не было, — говорит он. — Мы запретили американцам разрушать нашу печенку. В Снежном кока-кола больше не продается… У нас тут — шестьдесят пленных, — хрипло продолжает он. — Молитесь, чтобы их освободили до того, как перемирие закончится!
***
Львовская область. В просторной кухне деревенского дома за столом сидят брат и сестра. Сестра старше брата лет на десять. Рядом с ними на диване — раскрасневшаяся мать. Филипп — пограничник. Полтора месяца назад он вернулся из плена.
— Я получил телеграмму из Львова — прибыть 9 июля в бердянский пограничный отряд, — начинает он по-украински. — Купил билет, сел на поезд Львов—Мариуполь, позвонил маме…
— За минуту до отправки! — перебивает сына мать. — Ему руководство не сказало, что поезд в Мариуполь идет через Донецк!
— Когда он попал в плен, — теперь говорит сестра, — я думала, только шоб не били его. Лучше пусть бьют меня. Мне было двенадцать, когда он родился. Я с детства родителям истерики закатывала, что у всех есть братья и сестры, а у меня никого нет. Я выпросила себе его. Я его вырастила.
— Когда поезд прибыл в Донецк, я увидел в окно хлопцев с автоматами, — продолжает Филипп. — Сначала подумал, что наши, но когда увидел, что на каждом — георгиевская ленточка, понял, что это совсем не наши. Бежать было уже некуда — возле моего купе стоял дядька с автоматом. Началась проверка документов, а у меня было два рюкзака. Тот, что с формой, я спрятал. Дядька открыл мой паспорт: «Ой, Львовская область! Ты шо сюда едешь?» Я говорю: «Отдыхать». Он спрашивает: «А ты не знаешь, что у нас тут война?» Я говорю: «Да мне параллельно!» Он: «Ах, тебе параллельно…» Начал вещи обыскивать. А я себе сижу. Потом еще один пришел. Я не показывал, что мне страшно, но руки сильно тряслись. Он нашел другой рюкзак, открывает — там форма и войсковая квитанция. «Да ты военный. Какие войска?» Я говорю: «Инспектор пограничной службы». Он говорит: «Пойдешь с нами». Я хотел взять телефон, позвонить, но они его забрали и посадили меня в автобус. В нем еще двадцать человек было. По дороге в этот автобус я трохи нахапал по шее. Я все равно думал — сейчас все закончится, и я пойду назад. Поэтому сначала возбухал: «За что меня задержали?» Они: «Парень, ты не понял, куда попал». «Я понял, куда я попал, но…» — со злостью в голосе говорит он, останавливается и тяжело дышит. — Они стали меня бить и снимать это на телефон. Потом стали бить серьезно, и тогда я понял, что не надо ничего говорить, просто молчал. Они меня били, потом мне стало дуже себя шкода, и я просто заплакал. Они говорили: «Ты укроп. Ты приехал убивать наших жинок и детей». После того мне стало погано, и я отключился. Они похлопали меня по щекам, облили водой. Сказали, чтобы я собрал свои разбросанные вещи. Они отвезли меня в ихнюю часть. Там уже не было рукоприкладства, но морально принижали сильно. Я думаю, с собакою краше водятся. Они приходили и каждый день… — он оборачивается на мать. — Вы можете выйти? — спрашивает нетерпеливо.
— Добре, — говорит мать, не спеша вставать.
— Мне с мамою выйти? — спрашивает сестра.
— Выйди! — кричит Филипп. — Выйди с мамою!
— Добре-добре…
— Они сказали, шо… — задыхаясь, говорит он, — сегодня вы еще живы, вам дают есть, а через несколько дней мы дойдем до Львова и будем насиловать твою маму и сестру. Каждый день нам рассказывали, какие мы уроды. Вы себе не можете представить. Я никогда не думал, что когда мне будут бросать хлеб, я буду як голодный волк кидаться на него. Они рассказывали, как они хорошо жили, пока не пришли мы — укропы. Они говорили, что мы ломаем им жизнь.
— А ты им сказал, что никого не убивал?
— Я говорил. Но они мне сами сначала сказали: «Ты никого еще не убил, поэтому ты поедешь домой к маме». А я… если бы мне дали оружие, хотел бы их убить.
— За что ты их хотел убить — за то, что считаешь сепаратистами, или за то, что они тебя унижали?
— Вы не понимаете… Вы не понимаете. Для меня весь восток — пекло! Я… я когда слышу русскую мову, я хочу ударить того человека, — его карие глаза, а сидит Филипп так близко ко мне, что касается локтем, зримо светлеют, в них появляется много желтого цвета. — Я вам серьезно говорю! Хочете верьте, а хочете нет. Я хочу ударить!
— А как же ты сейчас сидишь рядом со мной?
— Ну… вы не приходили ко мне с ножом. Вы меня не били. Не заходите сюда! Посидите там! — кричит он, когда в коридоре мелькает мать.
— Я не слухаю тебя, сынок, — отвечает она.
— Когда я слышу, как кто-то говорит на русском… — он дрожит, — меня начинает тошнить! Я не можу слушати!
— А ты знаешь, что когда украинские военные берут в плен ополченцев, они обращаются с ними не лучше? — спрашиваю я.
— Что я вам могу сказать? Те, кто так делает с пленными, они — хворые на голову. Для меня не патрона шкода, мне людину шкода. Саму людину, бачите?! Вы думаете, у нас в армии все хорошие и добрые? У нас там так же самое есть звери. Когда обстреливали наших хлопцев, те хотели спрятаться в машине, а там сидит майор и говорит: «Какого ты сюда прибежал? Иди, ховайся в другой машине или беги в окоп». Вы знаете, что нормальная людина так не сделает? Просто наши хлопцы едут туда, на восток, за страну, за украинцев, а там — пекло!
— Страдания, которые ты перенес, стоят единства Украины?
— Я хочу навести на востоке лад, чтобы там у людей было мирное небо над головой. Чтоб они могли, как здесь, выйти погулять, чтобы по ним не работали установки «Град». Людей — шкода! Почему они выходят за дверь и сразу погибают? Почему они должны сидеть по подвалам? Мне шкода, понимаете? Просто шкода! Воля — бесценна. Жизнь — бесценна. Но у нас есть такие тупорылые военные, которые стреляют в тот квадрат, где сидят боевики, а попадают в дома мирных граждан. Я вам скажу, что того офицера из ДНР, который каждый день приходил к нам, я… я бачу его своим командиром. Если бы у нас в армии были такие командиры, то не было бы столько жертв. Он приходил и инструктировал тех, кто заступал на караул. Но когда караул оставался с нами надолго, они понимали, что с нами можно обращаться как с собаками. Он нам приносил сигареты. Он сказал, чтобы нам приносили суп, и мы несколько дней ели суп — смачный, как у мамы. Он говорил: «Як я с вами обращаюсь, так я хочу, чтобы ваши военные обращались с моими хлопцами»… Он — хороший человек.
— Каким должен быть хороший человек?
— Хороша та людина, яка для своего ближнего желает того, что и для себя. Все люди — братья. Я тоже не хочу, чтобы пришли до моего дома и чтобы мой дом сгорел. Я хочу мира. Я хочу стрелять только на полигоне. Но у меня страшная обида на них. Дали бы мне тогда оружие в руки и сказали: «Убей их!» — я не знаю, как бы я поступил.
— А сейчас?
— Честно? Очень глубоко в душе обида сидит. Сейчас я не знаю. Я не могу ответить на ваш вопрос.
— У тебя сильно трясутся руки.
— Я бачу. Я зараз могу начать плакать… Я в детинстве дуже вредный был. Много разных пакостей делал. Мама могла меня побить. Я сидел потом, плакал. А через пятнадцать минут мама приходила, брала меня на колени, обнимала и плакала вместе со мной. И все проходило. А сейчас не проходит. Мне шкода… — он плачет. — Мне дуже шкода, что с людьми так сталося.
— А теперь есть кто-то, кто мог бы тебя обнять и заплакать с тобой, чтобы твоя обида прошла?
— Не-ма, — плачет.
— Ну-ну, не плачь, — глажу его по руке.
— Вы знаете… Раньше у меня все было иначе — я хотел красивый дом, гроши хотел, хотел, чтоб за меня замуж вышла хорошая дивчина. А теперь мне не треба грошей, я хочу только, чтобы мама с сестрой были живы. Я думал, за что мне такая кара божья. Я, значит, заслужил. Они мне в автобусе разбили губу, нос, я закрыл лицо рукой, наклонился, кровь капала на пол, а они все говорили, что — укроп. Может, ктось из моих родичей чтось поганое сделал, а я расплачивался? Или это — испытание перед чем-то страшным? Первые три дня в плену я только спал. У меня был страшный шок, я хотел к маме. Но я говорил себе, что не может быть все погано, будет и добре. Я не рассказывал никому, как я в плену был. Приехал, мама сразу спросила: «Тебя там били?» Я сказал: «Нет». Но она все равно заплакала. Самое страшное — это если бы ей мое тело привезли или если бы ей похоронить некого было… Мой дед тоже был в плену у немцев, потом две недели шел домой. Он — Герой Социалистического Труда. У него есть орден Красного Знамени. Мы с Россией жили добре, не знаю, что теперь с нами сталось…
В кухню возвращаются сестра. Филипп ставит на печь чайник. Выходит курить.
— Мы с родственниками других пленных пошли в администрацию президента, — говорит она. — Нас посадили в комнате, и мы там сидели, ждали весь день. Люди уже матюкаться начали: «Чего мы тут ждем? За кого мы голосовали? К нам никто не выходит!» Тогда до нас приехала СБУ. Там был один человек, он нам помог связаться с Владимиром Рубаном — генералом, который занимается обменом пленных. Вот за кого треба молиться. Он сказал: «Я вам помогу их вытягнуть. Все сделаю, что можно». А в тот день, когда Филиппа освободили, зазвонил мой телефон. Муж рядом с трубкой сидел, говорит: «Тебе какой-то Филипп звонит». Я говорю: «У меня только один Филипп». И не знала, что делать — как трубку поднять.
— Вы боялись, что вам скажут плохое?
— Уху, — выдыхает она и плачет. — Он сказал: «Все нормально. Меня везут. Если через три часа не объявлюсь, значит, все плохо». Я больше не могла ничего делать, только на часы смотрела. А он давал гудок и отключал телефон. Так я понимала, что все добре.
В комнату входит мать.
— Филипп уже в плену был, когда у нас в гараже птахи яйца снесли, — говорит она мне. — Птенцы вылупились, птахи постоянно улетали и прилетали. А я уезжала и дверь в гараж закрыла. Вернулась, и как же страшно кричали они! Боже, боже, подумала я, и Филипп — в плену! Открыла им двери, — она распахивает руки. — Залейте, спасайте своих детей! И пусть Бог мне поможет спасти моего сына!
***
Ростов-на-Дону. Улица Горького, дом 213. Из всех, кого гнали в Змиевскую балку на расстрел, спаслась только одна женщина с детьми — они спрятались в комнате дома 213 по улице Горького. Но, как свидетельствуют архивы, некий Дмитриенко заложил женщину с детьми и занял эту комнату сам.
Из высоких окон, одетых в деревянные голубые рамы, видны ветки акации. Широкая пышная крона накрывает весь дом зеленой шапкой. Я хватаюсь за нижнюю перекладину окошка, заглядываю внутрь. Но слишком высока и сильна акация, пустившая корни посреди какой-то из комнат. Здесь давно никто не живет. Здесь давно не живет Дмитриенко. От дома 213 остались лишь внешние стены, и тому, кто не знает истории еврейской женщины и ее детей, эти стены ни о чем не скажут.
- Поделиться в
Коментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.